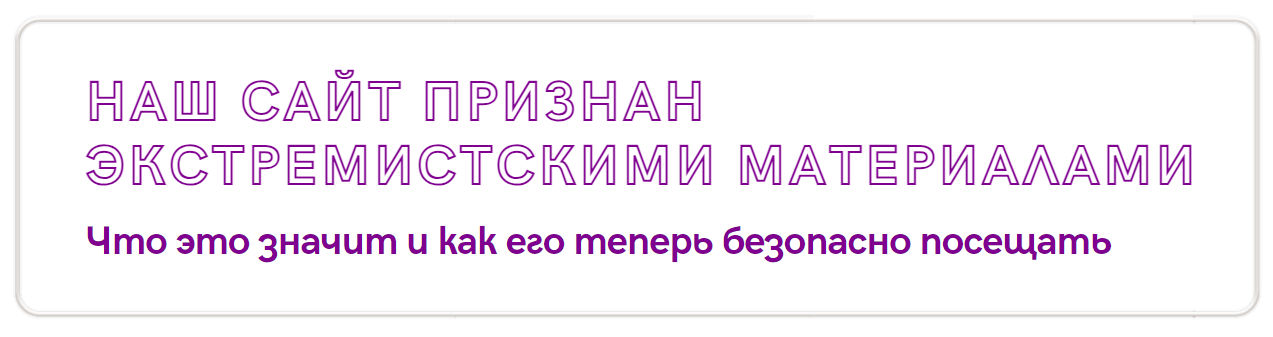Защита прав граждан
Новости
РУС
ENG
Адвокатура будущего
Конституционное судопроизводство
Ответ КПЧ на жалобу матери Юрия Захаренко: напоминание о насильственных исчезновениях в Беларуси
Опубликовано 22 августа 2025 года
Комитет по правам человека (Комитет, КПЧ) постепенно публикует принятые на 143-й сессии соображения. Среди них — два документа, касающихся Беларуси: первый представляет собой обобщенный ответ Комитета на 16 индивидуальных жалоб о нарушении права на свободу выражения мнений и права на мирные собрания. Второй — ответ на жалобу Ульяны Захаренко, матери исчезнувшего в 1999 году политика Юрия Захаренко.
Первое соображение в целом находится в русле ранее сложившейся практики КПЧ по жалобам на нарушение упомянутых свобод: Комитет вновь подтвердил, что систематические отказы в разрешении на проведение мирных собраний, вынесенные без надлежащей оценки необходимости и пропорциональности вмешательства в права заявителей, нарушают статьи 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП, Пакт).
Второе же соображение служит для нас напоминанием о все еще нерешенной — и, в ряде аспектов, усугубляющейся — проблеме насильственных исчезновений в Беларуси.
В этом материале мы кратко изложим суть жалобы Ульяны Захаренко и релевантный исторический контекст, а также обратимся к самому явлению насильственных исчезновений, включая новые неправомерные практики беларусского государства. К последним можно отнести краткосрочные насильственные исчезновения во время и после протестов 2020 года и содержание отдельных политзаключенных в режиме инкоммуникадо, который в определенных условиях может рассматриваться как форма насильственного исчезновения.
Первое соображение в целом находится в русле ранее сложившейся практики КПЧ по жалобам на нарушение упомянутых свобод: Комитет вновь подтвердил, что систематические отказы в разрешении на проведение мирных собраний, вынесенные без надлежащей оценки необходимости и пропорциональности вмешательства в права заявителей, нарушают статьи 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП, Пакт).
Второе же соображение служит для нас напоминанием о все еще нерешенной — и, в ряде аспектов, усугубляющейся — проблеме насильственных исчезновений в Беларуси.
В этом материале мы кратко изложим суть жалобы Ульяны Захаренко и релевантный исторический контекст, а также обратимся к самому явлению насильственных исчезновений, включая новые неправомерные практики беларусского государства. К последним можно отнести краткосрочные насильственные исчезновения во время и после протестов 2020 года и содержание отдельных политзаключенных в режиме инкоммуникадо, который в определенных условиях может рассматриваться как форма насильственного исчезновения.
От редакции:
Рассмотренная в этом материале ситуация служит очередным напоминанием о том, что правовой дефолт в Беларуси начался задолго до 2020 года. Задолго до массовых репрессий последних лет государство уже допускало действия, вопиюще противоречащие базовым принципам справедливости — даже в таких, казалось бы, технических вопросах, как разрешение наследственных дел, связанных с исчезновением оппозиционных политиков.
Для нас важно, с одной стороны, сохранять внимание к прошлым нарушениям, не позволяя им кануть в лету,
а с другой — размышлять вслух о взаимоотношении права и справедливости, о механизмах и институтах, которые — мы убеждены — еще вернутся в беларусскую действительность.
Для нас важно, с одной стороны, сохранять внимание к прошлым нарушениям, не позволяя им кануть в лету,
а с другой — размышлять вслух о взаимоотношении права и справедливости, о механизмах и институтах, которые — мы убеждены — еще вернутся в беларусскую действительность.
Насильственные исчезновения конца 90-х — начала 2000-х.
Рассмотрение жалобы Ульяны Захаренко — продолжение незакрытой истории, длящейся в Беларуси с конца 1990-х годов. Напомним, что в этот период в стране имели место сразу несколько насильственных исчезновений. Первым, 7 мая 1999 года, исчез бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко. 16 сентября того же года исчезли глава ЦИК Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. 7 июля 2000 г. в Минске был похищен оператор ОРТ Дмитрий Завадский.
Уголовные дела по каждому из этих случаев возбуждались по статье об умышленном убийстве; до 2019 года сроки расследования регулярно продлевались. Отсутствие прогресса компетентные органы объясняли отсутствием информации о подозреваемых — что, по мнению правозащитников, противоречило действительности: сведений, собранных родственниками и гражданским обществом, было достаточно для прогресса в расследовании. Подобные дела, впрочем, со всей очевидностью являются очень чувствительными. Уже в 2004 году специальный докладчик ПАСЕ Кристос Пургуридес в своем расследовании (доступно при наведении курсора) отметил не только отсутствие надлежащего следствия, но и признаки системного сокрытия преступлений: искажение доказательств, отказ в анализе вещественных улик, необоснованные кадровые перестановки, препятствующие установлению истины. О препятствиях следствию «изнутри» на протяжении многих лет рассказывали (доступно при наведении курсора) и члены семьи исчезнувших. В 2019-2020 гг. расследование было приостановлено и впоследствии возобновлено в связи с новыми обстоятельствами — интервью бывшего бойца СОБР (доступно при наведении курсора) Юрия Гаравского (доступно при наведении курсора), публично заявившего о своем участии в похищениях.
Комитет по правам человека уже рассматривал связанные с этими событиями жалобы. В 2017 году Комитет вынес соображение по жалобе матери и дочери Юрия Захаренко, установив, что Беларусь нарушила статьи 6, 7 и 9 Пакта (в совокупности со статьей 2(3)), поскольку не провела надлежащее расследование насильственного исчезновения. К моменту рассмотрения этой жалобы в Комитете, государство оказалось не в состоянии сообщить о каком-либо прогрессе следствия по истечении 16 лет после исчезновения.
В 2012 году похожее соображение было вынесено по жалобе жены и дочери Анатолия Красовского.
В 2017 году Ульяна Захаренко обратилась (доступно при наведении курсора) в Октябрьский районный суд г. Минска с заявлением о признании сына умершим с даты его исчезновения — для возможности реализации своих наследственных прав. Суд не стал рассматривать ее заявление по существу, объединив ее дело с аналогичным делом супруги Юрия Захаренко, отложив продолжение производства до появления результатов уголовного расследования. Впоследствии Ульяна Захаренко повторно обратилась в суд с уточнением, ссылаясь на статью 41 Гражданского кодекса, позволяющую объявить человека умершим, если с момента его исчезновения прошло более трёх лет — безрезультатно: рассмотрение ее заявления по существу осталось увязанным с затянувшимся и фактически бесперспективным расследованием.
В новой жалобе в КПЧ Ульяна Захаренко утверждала, что отказ судов рассматривать ее заявление по существу и искусственное увязывание гражданского производства с затянувшимся уголовным расследованием, нарушили ее право на доступ к суду, закрепленное в статье 14 (1) Пакта (доступно при наведении курсора): на практике она оказалась действия в ситуации правового лимбо, лишенная возможности распорядиться наследственным имуществом сына, несмотря на то, что условия для признания его умершим были формально соблюдены.
Рассматривая жалобу, Комитет обратил особое внимание на то, ни одна из национальных инстанций не объяснила, почему заявление Ульяны Захаренко должно было зависеть от уголовного дела, и почему не могла быть применена статья 41 Гражданского кодекса. По мнению КПЧ, отказ беларусских судов рассмотреть ее заявление по существу действительно нарушает статью 14 (1) Пакта. В связи с этим Комитет признал за государством обязательство обеспечить жертве эффективное средство правовой защиты. В данной ситуации это подразумевает гарантию оперативного доступа к суду для наследников заявительницы и выплаты им компенсации, а также принятие мер, исключающих повторение подобных нарушений в будущем.
Уголовные дела по каждому из этих случаев возбуждались по статье об умышленном убийстве; до 2019 года сроки расследования регулярно продлевались. Отсутствие прогресса компетентные органы объясняли отсутствием информации о подозреваемых — что, по мнению правозащитников, противоречило действительности: сведений, собранных родственниками и гражданским обществом, было достаточно для прогресса в расследовании. Подобные дела, впрочем, со всей очевидностью являются очень чувствительными. Уже в 2004 году специальный докладчик ПАСЕ Кристос Пургуридес в своем расследовании (доступно при наведении курсора) отметил не только отсутствие надлежащего следствия, но и признаки системного сокрытия преступлений: искажение доказательств, отказ в анализе вещественных улик, необоснованные кадровые перестановки, препятствующие установлению истины. О препятствиях следствию «изнутри» на протяжении многих лет рассказывали (доступно при наведении курсора) и члены семьи исчезнувших. В 2019-2020 гг. расследование было приостановлено и впоследствии возобновлено в связи с новыми обстоятельствами — интервью бывшего бойца СОБР (доступно при наведении курсора) Юрия Гаравского (доступно при наведении курсора), публично заявившего о своем участии в похищениях.
Комитет по правам человека уже рассматривал связанные с этими событиями жалобы. В 2017 году Комитет вынес соображение по жалобе матери и дочери Юрия Захаренко, установив, что Беларусь нарушила статьи 6, 7 и 9 Пакта (в совокупности со статьей 2(3)), поскольку не провела надлежащее расследование насильственного исчезновения. К моменту рассмотрения этой жалобы в Комитете, государство оказалось не в состоянии сообщить о каком-либо прогрессе следствия по истечении 16 лет после исчезновения.
В 2012 году похожее соображение было вынесено по жалобе жены и дочери Анатолия Красовского.
В 2017 году Ульяна Захаренко обратилась (доступно при наведении курсора) в Октябрьский районный суд г. Минска с заявлением о признании сына умершим с даты его исчезновения — для возможности реализации своих наследственных прав. Суд не стал рассматривать ее заявление по существу, объединив ее дело с аналогичным делом супруги Юрия Захаренко, отложив продолжение производства до появления результатов уголовного расследования. Впоследствии Ульяна Захаренко повторно обратилась в суд с уточнением, ссылаясь на статью 41 Гражданского кодекса, позволяющую объявить человека умершим, если с момента его исчезновения прошло более трёх лет — безрезультатно: рассмотрение ее заявления по существу осталось увязанным с затянувшимся и фактически бесперспективным расследованием.
В новой жалобе в КПЧ Ульяна Захаренко утверждала, что отказ судов рассматривать ее заявление по существу и искусственное увязывание гражданского производства с затянувшимся уголовным расследованием, нарушили ее право на доступ к суду, закрепленное в статье 14 (1) Пакта (доступно при наведении курсора): на практике она оказалась действия в ситуации правового лимбо, лишенная возможности распорядиться наследственным имуществом сына, несмотря на то, что условия для признания его умершим были формально соблюдены.
Рассматривая жалобу, Комитет обратил особое внимание на то, ни одна из национальных инстанций не объяснила, почему заявление Ульяны Захаренко должно было зависеть от уголовного дела, и почему не могла быть применена статья 41 Гражданского кодекса. По мнению КПЧ, отказ беларусских судов рассмотреть ее заявление по существу действительно нарушает статью 14 (1) Пакта. В связи с этим Комитет признал за государством обязательство обеспечить жертве эффективное средство правовой защиты. В данной ситуации это подразумевает гарантию оперативного доступа к суду для наследников заявительницы и выплаты им компенсации, а также принятие мер, исключающих повторение подобных нарушений в будущем.
Насильственные исчезновения после 2020: расширение практики.
С репрессивным ответом властей на массовые протесты после выборов 2020 года проблема исчезновений вновь стала актуальной. Отсутствие информации о местонахождении и состоянии здоровья задержанных, ситуация Марии Колесниковой, впоследствии — содержание отдельных политзаключенных в режиме инкоммуникадо без какой-либо связи со внешним миром — относятся ли эти случаи к насильственным исчезновениям?
Напомним международное определение насильственного исчезновения:
Насильственным исчезновением считается арест, задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями государства или же лицами или группами лиц, действующими с разрешения, при поддержке или с согласия государства, при последующем отказе признать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено без защиты закона (статья 2 Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Преамбула Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений).
Из этого определения вытекают три ключевых квалифицирующих признака:
За разъяснением международных стандартов в этой области и предварительной квалификацией имеет смысл обращаться к Рабочей группе по насильственным или недобровольным исчезновениям.
Рабочая группа — одна из специальных процедур Совета по правам человека ООН, своего рода гуманитарный канал связи между родственниками исчезнувших (или другими источниками информации о предполагаемых насильственных исчезновениях) и государствами. Среди прочего, Рабочая группа принимает и анализирует сведения о насильственных исчезновениях (и — шире — анализирует препятствия для реализации положений Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений в целом (доступно при наведении курсора)) и направляет их государствам с предложением изложить свои замечания. Резюме полученных сведений — Общие утверждения (General allegations) доступны на официальном сайте Рабочей группы (доступно при наведении курсора).
В одном из подобных документов, принятых на сентябрьской (2024 год) сессии Рабочей группы, подсвечиваются неправомерные практики, применяемые в местах несвободы в Беларуси. Эти практики, по мнению Рабочей группы, создают условия, при которых задержание или заключение могут перерасти в насильственное исчезновение.
В контексте административных производств отмечаются:
Применительно к осужденным фиксируются:
Подобные условия — особенно лишение доступа к защитнику для осужденных, зачастую лишенных иной связи с внешним миром — формируют ситуации, удовлетворяющие всем трем критериям насильственного исчезновения:
а) лицо однозначно лишено свободы (доступно при наведении курсора),
б) в результате действий государственных органов,
в) при этом действия последних приводят к невозможности установить местонахождение человека или получить информацию о его судьбе, поскольку он оказывается полностью изолирован от внешнего мира.
Важно подчеркнуть (доступно при наведении курсора): длительность исчезновения не является квалифицирующим признаком. Даже кратковременное исчезновение может подпадать под определение, если соблюдены указанные критерии. При этом и изначально законное ограничение свободы может трансформироваться (доступно при наведении курсора) в насильственное исчезновение, если сопровождается утратой внешней связи и непрозрачностью статуса лица.
Насильственные исчезновения, независимо от их продолжительности, наносят серьезный ущерб не только самим исчезнувшим, но и их семьям — которые также признаются жертвами. Подобные практики фактически исключают человека из обычного правового поля государства (очевидно, формально предоставленная возможность обжаловать действия сотрудников пенитенциарной системы не имеет для осужденного никакого значения, если ею нельзя воспользоваться на практике — человек «выпадает» из поля нормальной юридической защиты).
Напомним международное определение насильственного исчезновения:
Насильственным исчезновением считается арест, задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями государства или же лицами или группами лиц, действующими с разрешения, при поддержке или с согласия государства, при последующем отказе признать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено без защиты закона (статья 2 Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Преамбула Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений).
Из этого определения вытекают три ключевых квалифицирующих признака:
- лишение свободы против воли затрагиваемого лица;
- вовлеченность представителей государства — напрямую или через молчаливое одобрение происходящего;
- отказ признать факт лишения свободы и сообщить о судьбе или местонахождении человека.
За разъяснением международных стандартов в этой области и предварительной квалификацией имеет смысл обращаться к Рабочей группе по насильственным или недобровольным исчезновениям.
Рабочая группа — одна из специальных процедур Совета по правам человека ООН, своего рода гуманитарный канал связи между родственниками исчезнувших (или другими источниками информации о предполагаемых насильственных исчезновениях) и государствами. Среди прочего, Рабочая группа принимает и анализирует сведения о насильственных исчезновениях (и — шире — анализирует препятствия для реализации положений Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений в целом (доступно при наведении курсора)) и направляет их государствам с предложением изложить свои замечания. Резюме полученных сведений — Общие утверждения (General allegations) доступны на официальном сайте Рабочей группы (доступно при наведении курсора).
В одном из подобных документов, принятых на сентябрьской (2024 год) сессии Рабочей группы, подсвечиваются неправомерные практики, применяемые в местах несвободы в Беларуси. Эти практики, по мнению Рабочей группы, создают условия, при которых задержание или заключение могут перерасти в насильственное исчезновение.
В контексте административных производств отмечаются:
- отсутствие у компетентных органов обязанности уведомлять родственников и защитника о факте задержания (право задержанных просить об этом часто игнорируется на практике);
- произвольное лишение на практике доступа к адвокату, а также переписке и телефонным звонкам, что фактически изолирует человека от внешнего мира;
Применительно к осужденным фиксируются:
- произвольное применение дисциплинарных мер к осужденным для лишения их связи с внешним миром,
- лишение доступа к адвокату, в том числе как следствие нынешнего толкования ч. 6 ст. 83 УИК: пенитенциарные органы могут ограничить доступ адвоката под предлогом отсутствия заявления от самого осужденного
- преследование самих адвокатов, нарушающее не только их права, но и права подзащитных.
Подобные условия — особенно лишение доступа к защитнику для осужденных, зачастую лишенных иной связи с внешним миром — формируют ситуации, удовлетворяющие всем трем критериям насильственного исчезновения:
а) лицо однозначно лишено свободы (доступно при наведении курсора),
б) в результате действий государственных органов,
в) при этом действия последних приводят к невозможности установить местонахождение человека или получить информацию о его судьбе, поскольку он оказывается полностью изолирован от внешнего мира.
Важно подчеркнуть (доступно при наведении курсора): длительность исчезновения не является квалифицирующим признаком. Даже кратковременное исчезновение может подпадать под определение, если соблюдены указанные критерии. При этом и изначально законное ограничение свободы может трансформироваться (доступно при наведении курсора) в насильственное исчезновение, если сопровождается утратой внешней связи и непрозрачностью статуса лица.
Насильственные исчезновения, независимо от их продолжительности, наносят серьезный ущерб не только самим исчезнувшим, но и их семьям — которые также признаются жертвами. Подобные практики фактически исключают человека из обычного правового поля государства (очевидно, формально предоставленная возможность обжаловать действия сотрудников пенитенциарной системы не имеет для осужденного никакого значения, если ею нельзя воспользоваться на практике — человек «выпадает» из поля нормальной юридической защиты).
Заключение.
30 августа объявлен Международным днем жертв насильственных исчезновений.
В нашем контексте важно помнить о том, что на протяжении многих лет правозащитники добивались включения насильственного исчезновения в число отдельных составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Беларуси. Очевидно, что существующее законодательство не только не позволяет эффективно квалифицировать и расследовать широкий спектр ситуаций, подпадающих под международное определение насильственного исчезновения — не только сохраняющиеся практики инкоммуникадо и краткосрочных исчезновений людей при задержании, но и «классические» случаи насильственного исчезновения, с высокой вероятностью сопровождавшиеся внесудебными казнями и пытками — ситуации Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. Формальная квалификация этих дел в качестве «умышленных убийств» не отражает всей специфики ситуации. Подобные случаи требуют особой процедуры расследования (с учетом возможной причастности государственных структур), появления особого правового статуса жертвы насильственного исчезновения, способного обеспечить защиту прав близких исчезнувших лиц, и так далее (доступно при наведении курсора). Безусловно, требуется присоединение (доступно при наведении курсора) Республики Беларусь к Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
Ситуация, в которой легенды бабушек, помнящих о Большом терроре и пугавших политически активных внуков «черными воронками», возвращают свою актуальность, а сотрудники мест несвободы позволяют себе лгать — или вовсе отказывать в предоставлении информации о местонахождении и состоянии здоровья задержанных и заключенных — глубоко ненормальна. Описанные практики требуют адекватной правовой квалификации, помощи жертвам, гарантий неповторения со стороны государства, а с нашей стороны — внимания, памяти и солидарности.
В нашем контексте важно помнить о том, что на протяжении многих лет правозащитники добивались включения насильственного исчезновения в число отдельных составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Беларуси. Очевидно, что существующее законодательство не только не позволяет эффективно квалифицировать и расследовать широкий спектр ситуаций, подпадающих под международное определение насильственного исчезновения — не только сохраняющиеся практики инкоммуникадо и краткосрочных исчезновений людей при задержании, но и «классические» случаи насильственного исчезновения, с высокой вероятностью сопровождавшиеся внесудебными казнями и пытками — ситуации Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. Формальная квалификация этих дел в качестве «умышленных убийств» не отражает всей специфики ситуации. Подобные случаи требуют особой процедуры расследования (с учетом возможной причастности государственных структур), появления особого правового статуса жертвы насильственного исчезновения, способного обеспечить защиту прав близких исчезнувших лиц, и так далее (доступно при наведении курсора). Безусловно, требуется присоединение (доступно при наведении курсора) Республики Беларусь к Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
Ситуация, в которой легенды бабушек, помнящих о Большом терроре и пугавших политически активных внуков «черными воронками», возвращают свою актуальность, а сотрудники мест несвободы позволяют себе лгать — или вовсе отказывать в предоставлении информации о местонахождении и состоянии здоровья задержанных и заключенных — глубоко ненормальна. Описанные практики требуют адекватной правовой квалификации, помощи жертвам, гарантий неповторения со стороны государства, а с нашей стороны — внимания, памяти и солидарности.
Важно подчеркнуть, что основной целью было, разумеется, не проведение полноценного расследования в рамках уголовного дела, но попытка выяснить, проводилось ли эффективное и добросовестное расследование произошедшего со стороны беларусских властей.
См. обращение Белорусского документационного центра к Комитету против пыток в связи с очередным циклом отчетности Беларуси в 2018 году: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCAT%2FCSS%2FBLR%2F30684&Lang=en
Специальный отряд быстрого реагирования; спецподразделение внутренних войск МВД
Гаравского судили в Швейцарии в рамках универсальной юрисдикции — и оправдали, что в данной ситуации, однако, не означает, что его показания ложны: https://spring96.org/ru/news/112935
право на жизнь
право не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию
право на свободу и личную неприкосновенность
«Мне 93 года. 17 лет я, будучи пенсионеркой, испытываю материальные трудности, оплачивая содержание наследственного имущества сына. При этом я не могу ни распорядится этим имуществом, ни обратиться за пенсией по случаю потери кормильца, поскольку для разрешения этих вопросов мне необходимо решение суда. Суды, вплоть до Верховного, отказали мне в удовлетворении моего заявления о признании Юрия Захаренко умершим.»: https://spring96.org/ru/news/85956
Статья 14 охватывает право на обращение в суд в случаях рассмотрения уголовных обвинений, а также споров о правах и обязанностях в рамках гражданского судопроизводства. Право на доступ к правосудию должно быть надлежащим образом обеспечено во всех таких случаях, чтобы ни один человек не был лишён в процедурном смысле возможности отстаивать свои права в суде.
Сама Декларация не задумывалась как юридически обязывающий документ, но многие ее положения развивают международные обязательства государств — в том числе Республики Беларусь — вытекающие из других источников.
Ключевой запрет насильственных исчезновений и вытекающее из него обязательство государств проводить эффективные расследования каждого случая — норма jus cogens, связывающая все государства, вне зависимости от корпуса договорных обязательств: A/HRC/51/31/Add.3, п. 74 (https://docs.un.org/en/A/HRC/51/31/Add.3)
Ключевой запрет насильственных исчезновений и вытекающее из него обязательство государств проводить эффективные расследования каждого случая — норма jus cogens, связывающая все государства, вне зависимости от корпуса договорных обязательств: A/HRC/51/31/Add.3, п. 74 (https://docs.un.org/en/A/HRC/51/31/Add.3)
см. английскую версию сайта для более актуальной информации: https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-disappearances/general-allegations
Для более глубокого понимания спектра ситуаций, подпадающих под ограничение личной свободы, см. Замечание общего порядка КПЧ №35 (CCPR/C/GC/35): https://docs.un.org/CCPR/C/GC/35
См. Совместное заявление Комитета по насильственным исчезновениям и Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям, посвященное так называемым
«краткосрочным насильственным исчезновениям»: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2F11&Lang=en
«краткосрочным насильственным исчезновениям»: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2F11&Lang=en
Более подробно с аргументами в пользу введения в беларусское законодательство понятия насильственного исчезновения и связанных с ним, озвученными руководительницей Белорусского документационного центра Раисой Михайловской, можно ознакомиться здесь: https://spring96.org/ru/news/92008
О чем, опять же, правозащитники говорили десятилетиями: об обращении с предложением о присоединении страны к данной конвенции и ответе МИДа (кратко — отсутствует необходимость присоединяться к Конвенции) см. стр. 53-54, 68: https://spring96.org/files/reviews/ru/2012_review_ru.pdf?__cf_chl_rt_tk=vVolHvJHsCWiehFD9Zu.0Ewdux93MiWRGQtyV0aN7_o-1753873511-1.0.1.1-YaPcTgzHrGhO.UoLVHT4dLxB72lOS.Mv1jErRduvY8M