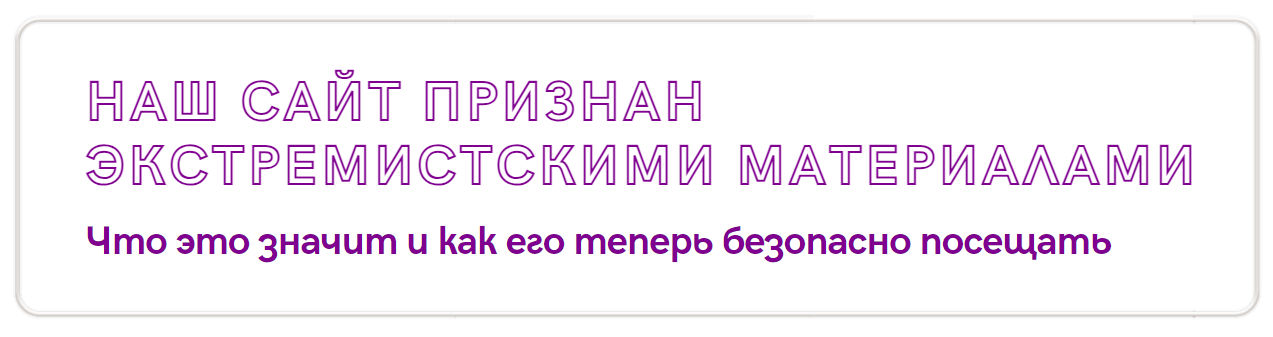Конституционное судопроизводство
Беларусь и Венецианская комиссия: краткая история отношений
Но что мы при этом знаем о самой Венецианской комиссии? Как она соотносится с Советом Европы — и какое отношение имеет к Беларуси, не являющейся членом этой организации?
В этом материале мы предложим краткий обзор роли и значения Комиссии, широкими штрихами — историю ее взаимодействия с Беларусью, а также проясним, на каком основании Комиссия может выносить какие-либо заключения применительно к беларусской правовой системе.
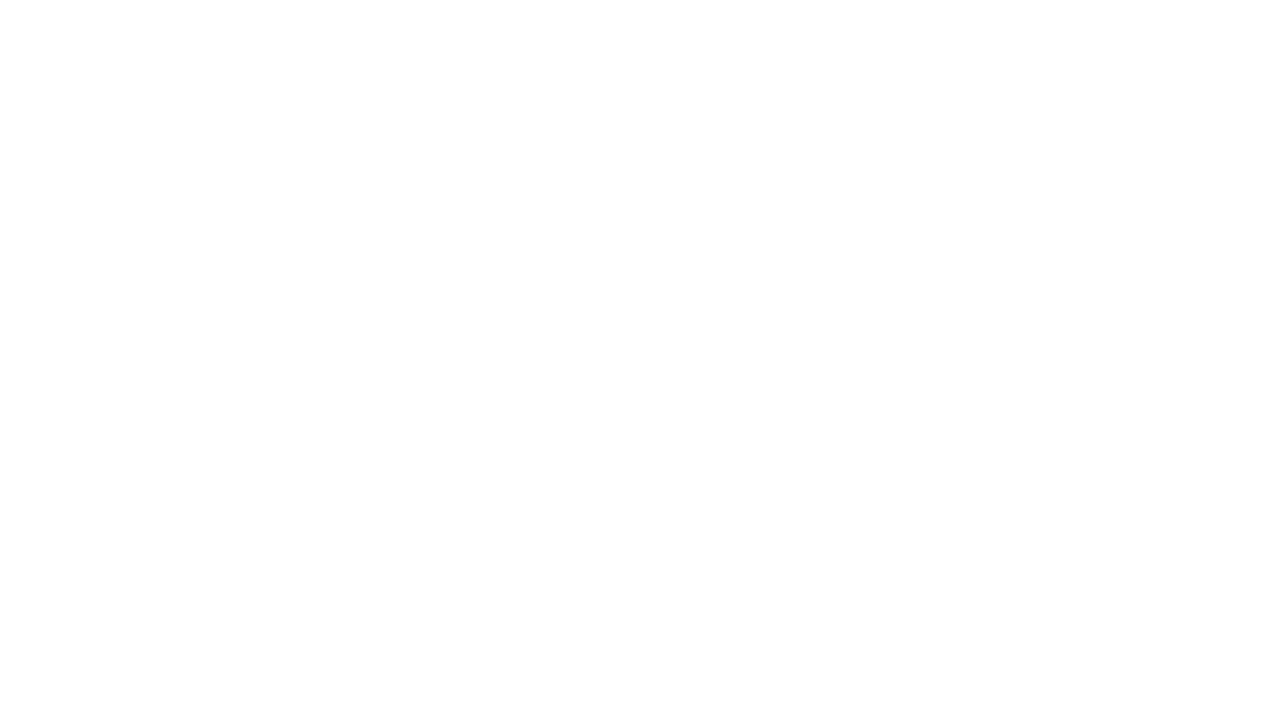
Даже несмотря на отсутствие новых заключений, касающихся Беларуси в последние годы, мы считаем важным наблюдать за деятельностью Комиссии: и как за органом, предоставляющим экспертную поддержку другим странам региона по вопросам, релевантным и для нас; и как за одним из якорей здравого (правового) смысла — напоминания о том, как еще можно думать о праве.
Кроме того, нам не хотелось бы, чтобы Комиссия воспринималась как что-то совершенно чужеродное и далекое от нас: несмотря на то, что Беларусь остается единственной европейской страной (а с недавнего времени делит этот статус с Россией), не являющейся членом Совета Европы, у нас с этой организацией — и Венецианской комиссией в частности — есть длинная история взаимодействия. Эта история оставила нам не только интересные документы, отражающие различные этапы белорусской правовой динамики, но и память о другой реальности — той, в которой Беларусь была ассоциированным членом Венецианской комиссии, ныне подсанкционная заместительница председателя Конституционного суда регулярно ездила на ее заседания в Венецию, а в Минске еще обсуждались сдержки и противовесы в беларусской Конституции.
При этом обе организации плотно взаимодействуют друг с другом, в том числе с точки пересечения стандартов.
in the constitutional development
of the countries of the former Soviet Union"
Для Беларуси этот статус означал возможность прямого доступа к механизмам правовой экспертизы Комиссии, участия в ее заседаниях и сохранение формального канала связи с европейскими правовыми институтами, которым беларусский Конституционный суд, судя по всему, пользовался: http://www.kc.gov.by/document-54843, http://kc.gov.by/document-71103
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8817&lang=EN#:~:text=82.%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20At%20present,far%20as%20possible.
«Учитывая крайне сильную позицию президента в Беларуси, предложение избирать членов Палаты представителей по одномандатным округам может быть поставлено под сомнение на том основании, что оно «нарушило бы баланс» между исполнительной и законодательной властью... В контексте Беларуси приоритетом должно быть укрепление способности Палаты выполнять функцию сдержек и противовесов по отношению к исполнительной власти...» https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1999)066-e
Полное название органа — Европейская комиссия «За демократию через право» — отражает особый предмет ее деятельности: Венецианская комиссия фокусируется на правовых гарантиях, способствующих укреплению демократии. Если говорить конкретнее, она оказывает государствам экспертную помощь в конституционном и законодательном строительстве, содействуя формированию устойчивых демократических институтов и защите прав человека на основе принципов верховенства права.
Комиссия состоит из независимых экспертов — юристов, судей, ученых-конституционалистов, назначаемых государствами сроком на четыре года (с возможностью продления). Каждый член Комиссии имеет заместителя. По Уставу, эксперты действуют в личном качестве и не принимают и не выполняют указания от каких-либо органов или лиц. Из своего состава Комиссия избирает Бюро — президента, трёх вице-президентов и четырех членов — сроком на два года, с возможностью переизбрания. Венецианская комиссия располагает собственным бюджетом, утверждаемым Комитетом министров Совета Европы, и работает при поддержке Секретариата Совета Европы. Постоянная штаб-квартира находится в Венеции, что и дало органу его привычное неофициальное название.
Особое внимание Комиссия уделяла вопросам разделения властей в новых республиках, где исполнительная власть традиционно стремилась к доминированию. Как отмечает Томас Маркерт (в прошлом — директор и секретарь Комиссии), Венецианская комиссия внесла значительный вклад в предотвращение чрезмерного усиления исполнительной власти в Украине и Молдове, а также в формирование парламентских демократий в Армении и Грузии на ранних этапах вновь обретенной независимости.
Другим устойчивым направлением ее работы остается реальная независимость судебной власти — понимаемая не формально — исключительно в качестве статьи в конституции — но как институциональная гарантия, защищающая правосудие от политического давления. Кроме того, Комиссия обращала внимание на наследие авторитарных институтов, унаследованных от прежних режимов. Так, одним из постоянных объектов ее критики стал институт прокуратуры советского типа.
В контексте этого преобразовательного проекта может быть закономерным вопрос: взаимодействовала ли Венецианская комиссия с Беларусью — и если да, то как и в каком качестве?
Тем не менее, в изменении форматов взаимодействия Беларуси с Венецианской комиссией в частности и Советом Европы в целом можно выделить несколько условных этапов.
Поворотной точкой в отношениях в том числе с европейскими институтами стал 1996 год — год проведения референдума, который не только грубо противоречил национальному законодательству, но и сопровождался незаконными действиями в отношении парламентариев, давлением на Конституционный суд, неудачной попыткой импичмента и последующим перераспределением властных полномочий в авторитарном ключе, включая создание нового — фактически подконтрольного — парламента.
Краткое напоминание:
1996 год в Беларуси стал примером типичной для авторитарных лидеров попытки перераспределения власти под прикрытием процедурной легитимности (народной поддержки). Столкнувшись с противодействием парламента — Верховного Совета — и Конституционного суда, ограничивавших его полномочия, А. Лукашенко предложил очередной референдум, призванный радикально переписать Конституцию в пользу расширения президентской власти. Конституционный Суд отметил, что в данной ситуации парламент «как высший представительный и единственный законодательный орган государственной власти.. оказался фактически исключенным из конституционного процесса» — и постановил, что обязательный характер планируемого референдума был бы неправомерным.
По запросу последнего спикера Верховного совета Семена Шарецкого, Венецианская комиссия подготовила заключение о двух проектах конституционных изменений — президентском и альтернативном, разработанном депутатами фракций коммунистов и аграриев. На сайте Комиссии до сих пор доступны оба текста, мнения отдельных экспертов и консолидированное заключение — важный источник для правовой квалификации происходившего в стране на распутье.
В своем заключении Венецианская комиссия признала оба проекта проблематичными и предупредила о риске их движения «в сторону авторитарного развития беларусской конституционной системы» — и призвала власти соблюдать решение Конституционного Суда относительно консультативного характера предстоящего референдума.
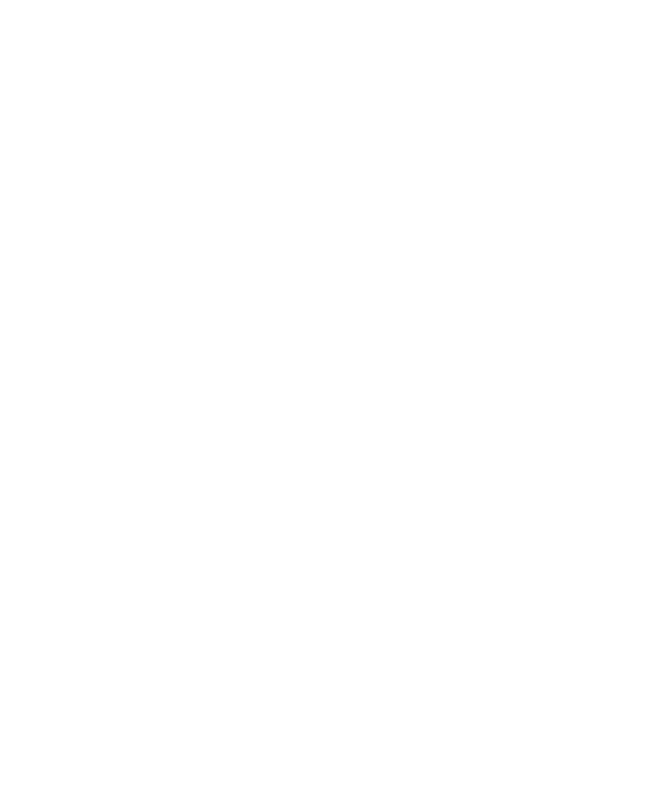
«ни установление ложного полупрезидентского режима с сильным влиянием президента (подразумевающего местами тотальный контроль) на все остальные органы и ведомства государства (включая парламент) [предложение А. Лукашенко],
ни предложение об упразднении поста президента со введением "режима [парламентского] собрания", лишенного системы сдержек и противовесов [предложение аграриев и коммунистов].. не могут рассматриваться в качестве приемлемых альтернатив Конституции 1994 года…»
«Для Комиссии очевидно, что в любой стране, которая стремится стать членом Совета Европы, решения Конституционного Суда должны приниматься во внимание и подлежать реализации со стороны всех органов государственной власти.»
Как мы, однако, помним, референдум все же был проведен и завершился победой президентского варианта — А. Лукашенко проигнорировал решение Конституционного суда и акты Верховного совета. 1996 год также отметился неудавшейся попыткой импичмента президента, сопровождавшейся давлением на депутатов парламента и судей Конституционного суда. После референдума оба органа были переформированы, а их независимость — де-факто утрачена.
«Состоялся, по сути, не референдум, а захват власти, в результате которого глава государства был наделен практически неограниченными полномочиями. Лукашенко получил право назначать судей, членов Центральной избирательной комиссии, глав местных органов власти, главу правительства и министров. Декреты и указы президента получили бóльшую юридическую силу, чем законы.»
Со стороны Совета Европы прилагались усилия к восстановлению сотрудничества, имело место точечное взаимодействие: так, в 2003 году для восстановления прерванного в 1996 г. взаимодействия между Венецианской комиссией и беларусским Конституционным судом, в Минск прибыла делегация экспертов Комиссии, состоялась конференция (не последняя в подобном формате) «Укрепление принципов демократического правового государства в Республике Беларусь посредством конституционного контроля», в рамках которой эксперты Венецианской комиссии, среди прочего, аккуратно критиковали существовавшую систему разделения властей в Беларуси, обсуждали важность института индивидуальной жалобы применительно к Конституционному суду. Обсуждались и дальнейшие направления сотрудничества — в частности, экспертиза проектов законов о средствах массовой информации и об институте омбудсмана (однако, судя по всему, эти проекты не были реализованы). В 1999 году эксперты Комиссии подготовили комментарии (доступно при наведении курсора) к проекту нового Избирательного кодекса; в отдельные периоды (в частности, 1997–2003 и 2006–2007 годы) Комиссия возобновляла публикацию решений Конституционного суда Беларуси в своём Бюллетене.
В целом это сотрудничество следовало ритму беларусских международных отношений с чередованием периодов оттепели и изоляции, совпадавшей с периодами выборов и подавлявшихся протестов. Гостевой статус белорусского парламента при ПАСЕ оставался замороженным, однако Совет Европы периодически возвращался к этому вопросу, демонстрируя готовность пересмотреть свое решение.
В рамках очередного витка нормализации отношений в 2009 году ПАСЕ выразила готовность восстановить гостевой статус при условии введения Беларусью моратория на смертную казнь (давнего требования Совета Европы и одного из важнейших препятствий для членства в организации).
Однако последовавшее вскоре приведение в исполнение смертных приговоров Андрею Жуку и Василию Юзепчуку еще до рассмотрения их жалоб Комитетом по правам человека ООН посреди разговоров о введении моратория было воспринято Советом Европы как провокационное и неправомерное — и привело к приостановке контактов на высоком уровне между ПАСЕ и парламентом и правительственными органами. Подобные колебания между попытками сближения и вынужденной изоляцией сохранялись и в последующие годы.
С правовой точки зрения, однако, интересно отметить об этом периоде следующее. Несмотря на ограниченность формата взаимодействия, Венецианская комиссия последовательно оценивала Беларусь в том числе через призму правового поля Совета Европы:
«Как страна-кандидат на вступление в Совет Европы и ассоциированный член Венецианской комиссии, Беларусь находится в сфере действия acquis Совета Европы, включая, среди прочего, прецедентное право Европейского суда по правам человека. Эта совокупность стандартов служит для Венецианской комиссии и Парламентской ассамблеи Совета Европы важной рамкой для оценки того, соответствуют ли отдельные меры беларусских государственных органов международным стандартам.»
Таким образом, пока Беларусь формально сохраняла намерение вступить в Совет Европы, стандарты Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод воспринимались не как внешняя абстракция, а как ориентир и цель.
Таким образом, все это время – поскольку страна формально сохраняла намерение вступить в Совет Европы — стандарты Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) были для нас не чем-то эфемерно далеким и нерелевантным (как положения международного договора, который Беларусь не ратифицировала – и которым, как следствие, не связана), но — ориентиром и целью. Квалифицируя действия беларусских властей, Комиссия опиралась не только на обязательные для Беларуси пакты, но и практику ЕСПЧ.
Венецианская комиссия сыграла свою роль и в квалификации происходившего в 2020 году: по поручению ПАСЕ она подготовила заключение о соответствии европейским стандартам отдельных норм, применявшихся для преследования мирных демонстрантов и членов Координационного совета. Тем не менее, даже после этих событий Беларусь формально сохраняла статус ассоциированного члена Венецианской комиссии и страны-кандидата на вступление в Совет Европы.
заморозка статуса ассоциированного члена
Венецианская комиссия сопровождала Беларусь фактически с первых лет независимости страны — порой с большими паузами, исчисляемыми годами — эти перерывы объяснимы не только ограничениями мандата самой Комиссии, но и незаинтересованностью беларусских властей в экспертизе с вниманием к конституционализму и верховенству права.
Тем не менее, важно помнить об этом наследии: сайт Венецианской комиссии хранит пласт интересных документов, в которых, наряду с анализом конкретных — быть может, не актуальных более – норм видна и общая логика взвешенного регулирования, сама по себе остающаяся релевантной, формирующая представление о том, каким может и должно быть законотворчество, основанное на верховенстве права и уважении к правам человека.
Не нам судить, насколько эффективными были формы ограниченного сотрудничества между Беларусью и Венецианской комиссией — особенно в условиях авторитарного режима. То, что беларусские юристы имели возможность слышать альтернативное экспертное мнение о состоянии конституционализма, участвовать в заседаниях Комиссии, обмениваться опытом с коллегами из других государств — на наш взгляд, уже ценно само по себе.
Если такая возможность представится вновь, сотрудничество с Венецианской комиссией не станет для Беларуси началом с чистого листа — скорее, возвращением к прерывистой линии преемственности, истории попыток наладить сотрудничество, в рамках которой могли бы быть восстановлены и гостевой статус беларусского парламента, и ассоциированное членство Конституционного суда — наряду с работой над полноправным присоединением к Совету Европы, к стандартам и механизмам, которые, на самом деле, могут оказаться гораздо менее далекими и эфемерными, чем мы себе представляем.