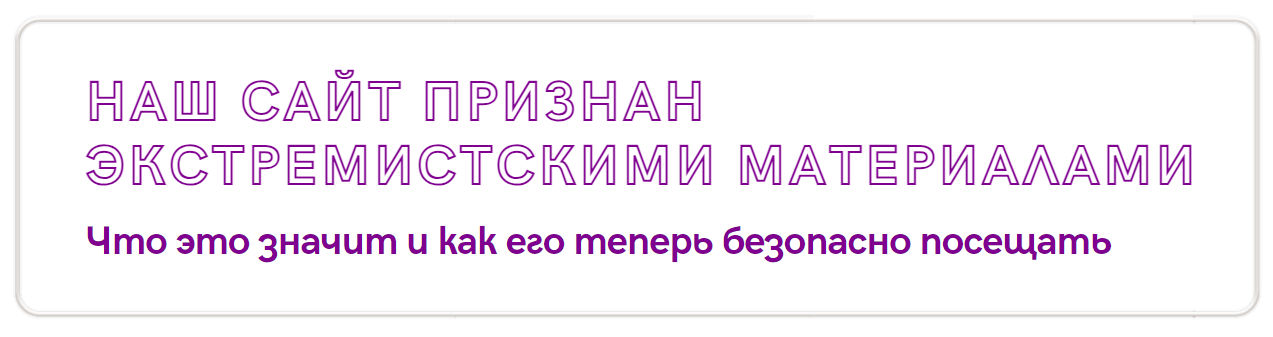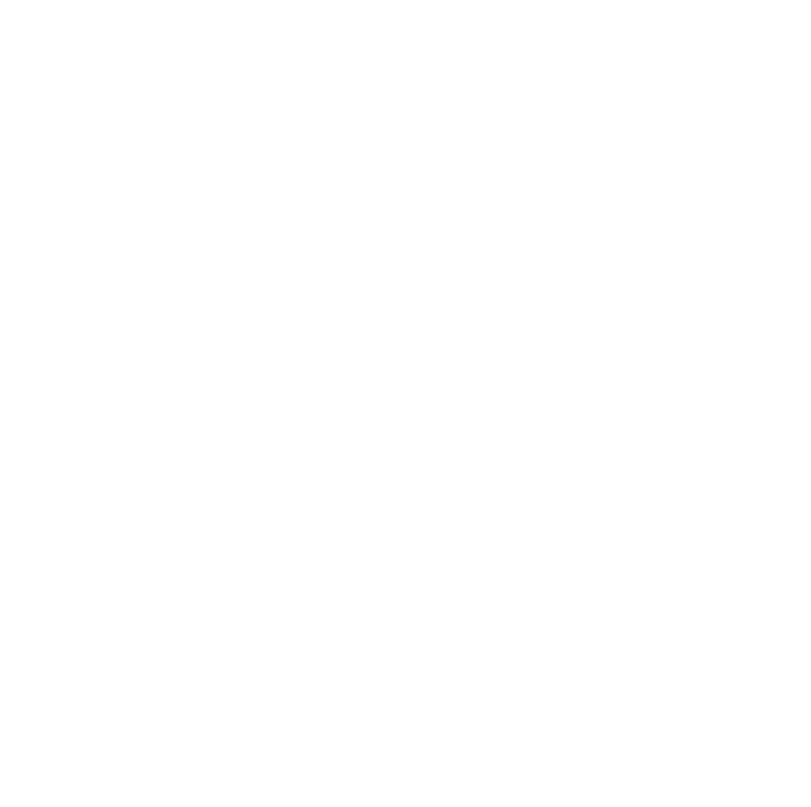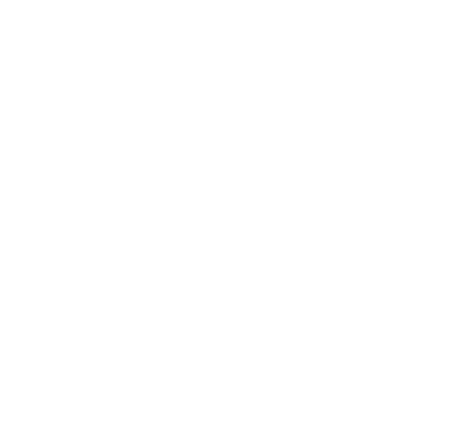Конституционное судопроизводство
Вариации на тему права собственности: разбираем свежее решение Конституционного суда
Фабула дела
Заявительница обратилась в Конституционный суд, поскольку посчитала что указанный п. 2 ст. 275 ГК нарушает часть вторую ст. 21 (о праве на достойный уровень жизни), части вторую и третью ст. 44 (о праве собственности), часть первую ст. 45 (о праве на охрану здоровья), ст. 47 (о праве на социальное обеспечение), ст. 58 (о запрете на понуждение к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией и законами, либо к отказу от своих прав) Конституции.
Такой «букет» статей Конституции, которые, по мнению заявительницы, нарушены применением п. 2 ст. 275 ГК связан с тем, что заявительница проживает в жилом помещении социального пользования с ребенком, имеющим инвалидность, имея при этом в собственности спорное жилое помещение, и, по мнению заявительницы, кроме права собственности, невозможностью пользования также нарушается ряд прав, связанных со здоровьем и надлежащими жилищными условиями, необходимыми в связи с особыми потребностями.
Что решил Конституционный суд
К сожалению, Конституционный суд уделил минимальное внимание анализу этой ситуации, просто «спрятавшись» за конституционные гарантии жилищных прав. Суд, видимо, уже достаточно стандартно сослался на ст. 23 Конституции (кто следит за нашими публикациями, тот помнит, что эта статья устанавливает возможность ограничения прав, закрепленных в Конституции).
«Положения части шестой статьи 44 Конституции во взаимосвязи с частью первой статьи 23 Конституции, определяющей основания ограничения прав и свобод личности, устанавливают пределы усмотрения законодателя при принятии законов, регламентирующих осуществление права собственности, допускают ограничение законом правомочий собственника в интересах защиты прав и свобод других лиц.
В связи с этим Конституционный Суд считает, что исходя из части второй статьи 21, части шестой статьи 44, частей первой, третьей статьи 48 Конституции во взаимосвязи с положениями части первой статьи 23 Конституции, в соответствии с конституционными принципами социального государства, верховенства права, равенства всех перед законом сохранение права пользования жилым помещением за членами семьи прежнего собственника в рассматриваемом случае отвечает конституционно значимым целям защиты их конституционного права на жилище, принципу соразмерности ограничения прав, учитывая интересы и защиту прав других лиц».
То есть, расшифровывая написанное, можно увидеть следующую логику суда: право собственности, в целом, не является в нашей стране какой-то священной коровой. Статья 23 Конституции разрешает ограничивать права, закрепленные в Конституции, в том числе право собственности, и вот это ограничение права собственности одного лица жилищными правами других лиц является в нашем социальном государстве адекватным и соответтвующим принципам.
В целом, можно сказать, что Конституционный суд полностью проигнорировал содержание права собственности, не провел никакого анализа и не обременил себя поиском баланса интересов. Напомним, что в одном из предыдущих определений Конституционного суда от 15.04.2025 № О-3/2025 суд в отношении другого права указал ««Законодатель в силу пункта 2 части первой статьи 97 и пункта 1 части первой статьи 98 Конституции во взаимосвязи с частью первой статьи 23 Конституции вправе конкретизировать содержание закрепленного статьей 62 Конституции права на юридическую помощь и устанавливать правовые механизмы его осуществления, условия и порядок реализации, не допуская при этом искажения существа данного права, самой его сути, и введения таких его ограничений, которые не согласовывались бы с конституционно значимыми интересами».
В данном случае достаточно очевидно, что подобное ограничение прав собственника граничит с искажением данного права, если не приводит к полной невозможности его реализации. Однако суд по старой беларусской легалистской привычке сослался на прямое содержание текстов Конституции – есть возможность ограничения права, значит нет проблем в том, что право ограничивается. Напомним, что пропорциональность ограничения права достижению легитимной цели ограничения права является самостоятельным критерием оценки законности ограничения права. Говоря другим языком, права нельзя ограничивать только потому что такое право на ограничение есть, необходимо еще и оценивать баланс прав и интересов и реализовывать минимально необходимое ограничение.
В целом, судя по всему, Конституционному суду понравилось ссылаться на ст. 23 Конституции в тех ситуациях, когда необходимо обосновать правомерность ограничения. Однако, такое, прямо скажем, непрофессиональное применение ст. 23 Конституции без достаточных обоснований является очень плохой тенденцией. В целом, если бездумно ссылаться на ст. 23 Конституции, которая действительно закрепляет достаточно формальные правила ограничения прав, то надобности в таком Конституционном суде нет – достаточно просто стажеру под копирку писать «анализ ст. ... в совокупности со ст. 23 Конституции показывает обоснованность ограничения права...». Но хочется другого, хочется видеть действительно анализ соотношения прав, объективной необходимости вмешательства в право или его ограничение, поиск баланса интересов, даже в какой-то мере выработку критериев справедливости ограничения прав, а не формальных решений – можно ограничивать право, значит ограничили правильно.
Суд фактически предложил поискать ответы в Жилищном кодексе: «Конституционный Суд обращает внимание на то, что установленное пунктом 2 статьи 275 Гражданского кодекса ограничение права собственности нового собственника жилого помещения не носит абсолютного (безусловного) характера, поскольку допускает иное регулирование в жилищном законодательстве».
Но при этом суд признает, что в ЖК имеются основания для выселения БЫВШИХ членов семьи собственника, выселения членов семьи БЫВШЕГО собственника по основаниям, не связанным с наследованием, но нет механизма выселения проживающих новым собственником. И по мнению Конституционного суда, такой порядок стоит установить. Судом, в какой-то мере, задаются возможные параметры такого регулирования: со ссылкой на ст. 47 Конституции (права людей с инвалидностью), ст. 32 Конституции (защита материнства и детства) суд указал, что «положения Конституции о гарантиях прав инвалидов в социальном государстве обусловливают необходимость устанавливать конституционно-правовые механизмы, обеспечивающие на основе принципа социальной справедливости надлежащие и равные возможности удовлетворения жизненных потребностей в жилище, охране здоровья, в целях обеспечения достойного и свободного развития личности, оказывая при этом особое внимание инвалидам, семьям с детьми, нуждающимся в социальной защите».
Конституционный Суд считает, что в связи с выявленным конституционно-правовым пробелом, повлекшим правовую неопределенность положений статьи 89 Жилищного кодекса, находящихся в прямой нормативной связи с положениями пункта 2 статьи 275 Гражданского кодекса, в целях обеспечения сбалансированного правового регулирования, позволяющего учитывать интересы нового собственника и членов его семьи, необходимо установить правовой механизм, позволяющий использовать дифференцированный подход к оценке тех или иных жизненных ситуаций при рассмотрении требований о выселении членов семьи прежнего собственника при переходе права собственности на жилое помещение по наследству.
Оценка оснований для удовлетворения таких требований должна обусловливаться конкретной, сложившейся на практике ситуацией, в том числе наличием у члена семьи прежнего собственника прав на другие жилые помещения либо возможностью приобретения таких прав».
То есть, фактически суд предложил определить такой порядок защиты прав собственника, при котором будет оцениваться не само наличие прав собственности, а достаточность оснований требовать реализации права собственности. Признавая необходимость поддержки уязвимых групп, мы, тем не менее, считаем невозможным вводить градацию сущности и защиты права собственности в зависимости от социального положения или статуса собственника. Как минимум это не соответствует правовой определенности – правовые последствия для лица, имеющего право пользования, не должны непредсказуемо зависеть от того, к кому перешло право собственности. Если это «жирный» кот-банкир, то права сохраняются, а если более нуждающийся, чем ранее проживавший, то право прекращается. Фактически, государство перекладывает свои обязательства по социальному обеспечению уязвимых групп на третьих лиц. Если вы уж решили, что переход права собственности не влечет прекращение жилищных прав, и в этом проявляется социальный характер государства, и ограничение права собственности является обоснованным, то куда делся социальный характер государства на втором шаге, когда у собственника появились свои дополнительные потребности. Такое предложение суда разработать регулирование, которое бы позволило соизмерять потребности собственника и проживающего является чем-то сродни введения градации объема содержания права собственности и права пользования почти что по признаку происхождения.
Чтобы не складывалось впечатления, что мы неким образом против поддержки уязвимых групп, мы можем поделиться своим видением, как могло бы выглядеть решение этого вопроса. Во-первых, принцип правовой определенности требует одинаковых последствий в одинаковых ситуациях (глобально, это один из базовых принципов права: одинаковые ситуации трактуются по-одинаковому, разные – по-разному), то есть, если установлены последствия перехода права собственности, то они не должны зависеть от факторов, не связанных с таким переходом (например, к кому переходит право собственности), во-вторых, государство не должно перекладывать свои обязанности по обеспечению защиты уязвимых групп на третьих лиц, то есть, в подобной ситуации государство должно обеспечить реализацию жилищных прав и прав, связанных с материнством и детством, обеспечить надлежащим жильем, надлежащими условиями, а не вводить градацию защищенности прав проживающих в зависимости от того, кому именно перешло по наследству жилое помещение. Ну или решить, что переход права собственности все же влечет прекращение жилищных прав. Решать проблемы уязвимых групп надо, но не путем создания искаженной правовой действительности.
Если продолжить логику Конституционного суда по установлению правового механизма, предусматривающего дифференцированный подход к оценке различных жизненных ситуаций, то с учетом того, что беларусская правовая модель предусматривает минимальную свободу судов в толковании права, а в качестве единственного способа разрешения правовых коллизий детальное урегулирование в законах, то следующей проблемой будет составление в ЖК своеобразного табеля о рангах – кто кого может выселить, какие жизненные проблемы являются более важными, а какие – менее важными. Это очень неправильно и является серьезной подменой понятий, по нашему мнению.
В целом, суд указал в резолютивной части следующее:
«Руководствуясь принципом верховенства права, признать наличие конституционно значимого пробела в правовом регулировании, повлекшего правовую неопределенность взаимосвязанных положений пункта 2 статьи 275 Гражданского кодекса Республики Беларусь и статьи 89 Жилищного кодекса Республики Беларусь, поскольку в системе действующего законодательства не обеспечивается правовая определенность при установлении оснований прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу.
Национальному собранию Республики Беларусь надлежит устранить выявленный пробел в правовом регулировании с учетом правовых позиций Конституционного Суда, изложенных в настоящем решении.
Правоприменителям до внесения соответствующих изменений в законодательные акты при решении вопросов о сохранении права пользования жилым помещением за членами семьи прежнего собственника в случае перехода права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу по наследству необходимо обеспечить соблюдение принципов верховенства права и социальной справедливости».
Вывод